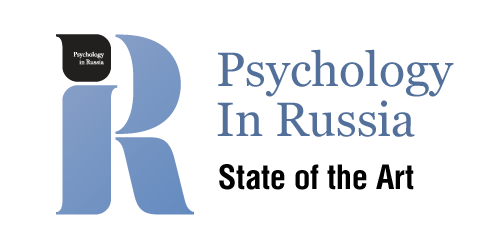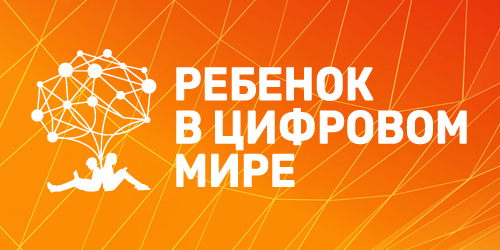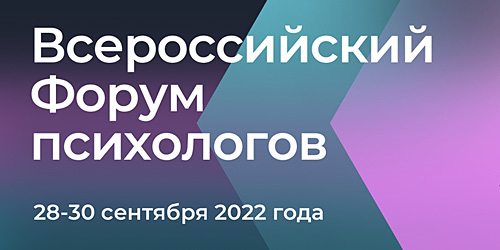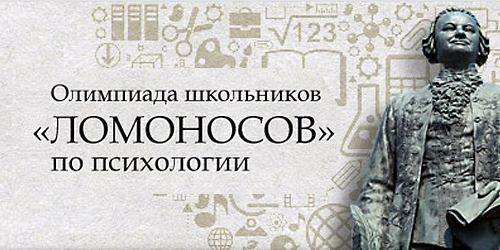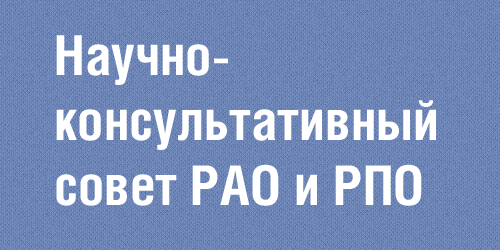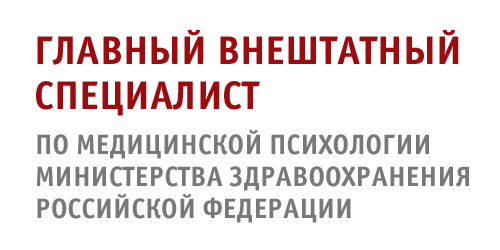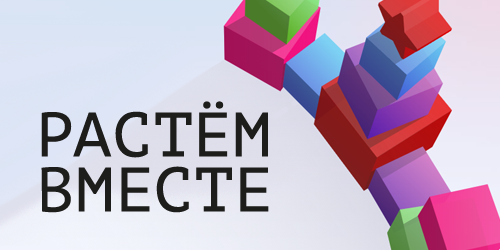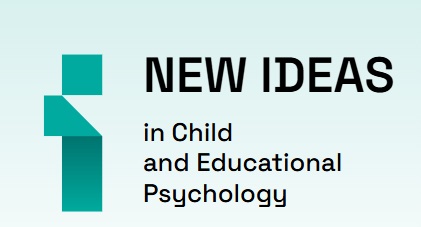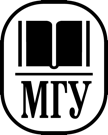Статья
Квасова О. Г. Трансформация временной перспективы личности в экстремальной ситуации (обзор исследований). Вестник Московского университета. Серия 14. Психология - 2011. - №4 - с. 109-117.
Автор(ы): Квасова Ольга Григорьевна
Аннотация
В статье рассматриваются различные аспекты изучения временнόй пер- спективы в связи с экстремальным опытом человека. Отдельные исследования комментируются с точки зрения темпоральной концепции деятельности по конструированию временнόй формы (М.Ш. Магомед-Эминов).
Разделы журнала: Труды кафедры экстремальной психологии и психологической помощи
Страницы: 109-117
Ключевые слова: временная перспектива; экстремальная ситуация; темпоральная концепция деятельности; темпоральная работа личности; посттравматический рост; нарративный анализ
Общепсихологический анализ закономерностей психологической трансформации человека в экстремальной ситуации и разработка адекватных методов психологической помощи людям, пережившим травматический опыт, предполагают рассмотрение феноменов экстремальности в темпоральном контексте, в частности в контексте понятия временнόй перспективы (ВП).
Мы будем основывать свой анализ на таком подходе, в котором экстремальность рассматривается в плане трансформации способа существования человека при переходе от повседневного к неповседневному способу бытия, жизни (Магомед-Эминов, 1998, 2006, 2007, 2009). Вместе с тем в современной литературе экстремальность трактуется преимущественно в контексте медико-биологических или стимульно-реактивных концепций стресса. Но и в них темпоральный фактор занимает центральное место. Например, Г. Селье (Selye, 1956, 1976) связывает последствия для организма стимульного воздействия с его длительностью, а посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) определяет как отсроченные (следовательно, темпоральные).
Проблема ВП занимает особое место в психологических исследованиях человеческого поведения, мотивации, личности, когнитивных аспектов Я-концепции. В понятии Я-концепции, например у У. Джемса, присутствует не только актуальная самопрезентация, но и то, как сам индивид оценивает возможности своего развития в будущем, своего идеального Я. Динамические параметры актуализации того или иного временного «модуса» Я-концепции при анализе мотивации обсуждаются Ж. Нюттеном (2004). В рамках мотивационного подхода также изучаются такие характеристики ВП, как экстенсивность, протяженность, глубина, степень структурированности, насыщенности, уровень реалистичности и т.д. Рассматриваются возрастные особенности ВП (Прихожан, Толстых, 2007; Руководство..., 2000; Толстых, 2009), выделяются условия, необходимые для ее формирования. В частности, при сравнении ВП обычных школьников и подростков, воспитывающихся в условиях ограниченных возможностей для полноценного развития, обнаружено, что у первых ВП глубже, и в ней присутствуют мотивы, связанные с отдаленным и более структурированным будущим, чем у их сверстников из детского дома, демонстрирующих преобладание перспективы ближайшего потребного будущего (Толстых, 1982).
Подход, предложенный в работах М.Ш. Магомед-Эминова (1998, 2006, 2007, 2008, 2009), ставит проблему ВП личности в первую очередь в контекст столкновения человека с экстремальной ситуацией, катастрофой, разрывающей, расщепляющей его темпоральную структуру.
В последнее десятилетие темпоральные аспекты экстремальных событий стали вызывать интерес как у исследователей стресса (Миско, Тарабрина, 2004; Тарабрина, 2001; Юрьева, 1998), так и у исследователей личности и мотивации (Арестова, 2000; Фоменко, 2008).
Одним из популярных подходов к пониманию ВП является трактовка этого конструкта как фактора совладания со стрессом. Так, в концепции жизнестойкости С. Мадди человек совершает выбор прошлого (привычного и знакомого) и будущего (нового, неопределенного и непредсказуемого). Выбор прошлого, фиксация на прошлых воспоминаниях, вина за произошедшее создают бессилие и бессмысленность. Жизнестойкость — это ресурс, на который опирается человек при выборе будущего (Maddi, 2002). В терминах подхода к ВП как конструированию темпорального опыта в работе личности концепция Мадди подтверждает, что человек выбирает различные виды работы с опытом, либо отчуждая нечто негативное в своем опыте, либо повторяя позитивные тенденции, либо укрепляя в себе тенденцию стойкости к бедствию (Магомед-Эминов, 1998).
Распространенными на сегодняшний день становятся утверждения о том, что одним из психологических последствий социальных кризисов является «нарушение временнόй перспективы личности», «крушение жизненных планов» и «временнáя дезориентация субъекта» (Арестова, 2000). Указывается, что темпоральные характеристики предельных, экстремальных «модусов существования» включают в себя феномены «обрыва временнόй перспективы», ее «сужения» или «жизни в отсутствии будущего с отказом от ее планирования» (Фоменко, 2008). В современных классификаторах ПТСР есть указания на «неспособность ориентироваться на длительную жизненную перспективу» (МКБ-10), например, когда человек не планирует заниматься карьерой, жениться, иметь детей или строить нормальную жизнь.
Психическая травма характеризуется двумя тенденциями — вторжением травматических воспоминаний, мыслей, образов с навязчивым возвращением и сильным аффективным переживанием вновь травмирующей ситуации (DSM-4-TR) в виде вспышек памяти, ведущих к спонтанным, мелким, разрозненным воспоминаниям, при которых не обнаруживается ни их контекст, ни их взаимоотношение во времени (Тарабрина, 2001). Психическая травма характеризуется также тенденцией избегания воспоминаний, сцен, мыслей, поведения, напоминающих травматическую ситуацию с полной или частичной амнезией, либо с неспособностью воспроизвести эти воспоминания. Феномен сжатия времени объясняется тенденцией гипервозбуждения, не наблюдавшегося до травмы и сопровождающегося постоянным ожиданием угрозы, сложностью концентрации внимания (там же). Это объяснение следует за сложившимся в западной традиции объяснением последствий хронического гипервозбуждения как утраты вербальных, семантических способов фиксации мнемических следов и возврата к более ранним сенсорным, иконическим (Janet, 1928; Van Der Kolk, 1986).
Так, при исследовании особенностей жизненной перспективы у ликвидаторов аварии на ЧАЭС и ветеранов войны в Афганистане с ПТСР и без него (Миско, Тарабрина, 2004) предпринято изучение качественной структуры изменения представлений о жизненной перспективе при психологической травме различного генеза. Было показано, что искажение ВП зависит от уровня травматизации. Обнаружено, что в случае военной травмы больше деформируется эмоциональный компонент перспективы будущего. Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС перспектива будущего включает в себя ожидаемую травму, связанную с угрозой здоровью или жизни вне зависимости от степени травматизации.
По данным Л.Н. Юрьевой (1998), лицам, пережившим техногенную катастрофу, прошлое представляется как более значительный период жизни, а будущее приобретает негативную окраску, видится малоперспективным, зачастую размытым и неопределенным. Их психологический возраст больше биологического, у ликвидаторов аварии на ЧАЭС в целом происходит деформация картины жизни и ВП, «горизонты бытия» сужаются. При анализе ВП и отношения к прошлому, настоящему и будущему различных социальных групп в условиях экономического кризиса (Муздыбаев, 2000) выявлено, что у большей части наших соотечественников ВП сильно сокращена или не определена. Значительное количество людей испытывают временную дезориентацию (преимущественная ориентация на прошлое); настоящее время оценивается как исключительно негативное, а прошлое — как позитивное. Оптимизм, диспозиционная надежда, внутренний локус контроля, высокое самоуважение значимо влияют на дальность ВП и выбор ориентации на настоящее и будущее, а также на способность к выбору эффективных рациональных стратегий совладания с трудностями и лучшей личностной адаптации.
Интерес при изучении ВП представляют также исследования переживания времени в самой экстремальной ситуации. Наши работы (Квасова, 2008) показали, что люди, пережившие травматические события, воспринимают время экстремальности как «растянутое»: «время растянулось в действиях», «увеличилось в голове», время длилось как в «покадровом просмотре», в «замедленной съемке», «секунда растянулась в минуту», «время было растянуто в ожидании». Чем более травмирующим является событие, тем более эффект «растянутости» приближается к практически полной «остановке времени»: «время тянулось целую вечность», «время остановилось», ощущалась «заторможенность времени», «происходило все, как в тумане», «не знаю, сколько времени прошло». При этой тенденции наблюдается также и отдаление перспективы будущего, когда будущее кажется чем-то далеким и нереальным. Эти эффекты согласуются с распространенными представлениями о «жизненном обзоре», «панорамных воспоминаниях» (Lommel, 2006; Noyes, Kletti, 1977), свидетельствующими о том, что мгновенный процесс переживается как чрезвычайно растянутый, когда человек воспроизводит практически симультанно целостный процесс прожитой жизни или в виде стремительной ретроспективы, или, наоборот, в хронологической последовательности. Интересны феномены разрыва и «вневременности», «наблюдение за происходящим как бы со стороны», которые описываются как диссоциативные феномены дереализации и оцепенения, т.е. как защитные процессы в контексте психической травмы (Herman, 1997).
В концепции темпоральной трансформации личности в экстремальной ситуации (Магомед-Эминов, 2007, 2008) разорванность или связанность опыта зависит от смысловой темпоральной работы личности, т.е. работы, которая дает возможность человеку наделить смыслом настоящее и переосмыслить будущее, утратить смыслы, позволившие выжить во время бедствия (спастись любой ценой), и сконструировать новые (Magomed-Eminov, 1997). Разорванность опыта обусловлена вторжением травматического опыта и его избеганием. Человек охвачен противоречием между утратой памяти о прошлом и оживлением этого прошлого, между импульсивным действием под влиянием воспоминаний и торможением этих действий в силу мощных избегательных тенденций. Это заставляет его сильнее фиксироваться на травме и не думать о будущем.
В некоторых современных исследованиях идея необходимости связывания опыта присутствует априорно в построении самих экспериментов. Так, в методике описания временн
Для цитирования статьи:
Квасова О. Г. Трансформация временной перспективы личности в экстремальной ситуации (обзор исследований). Вестник Московского университета. Серия 14. Психология - 2011. - №4 - с. 109-117.