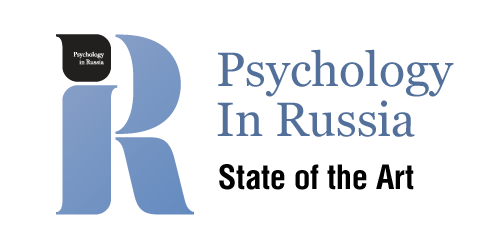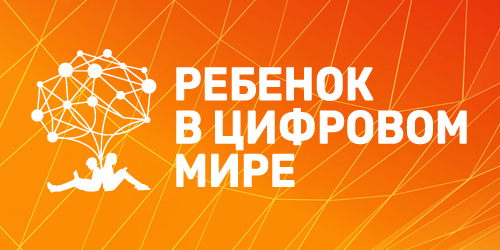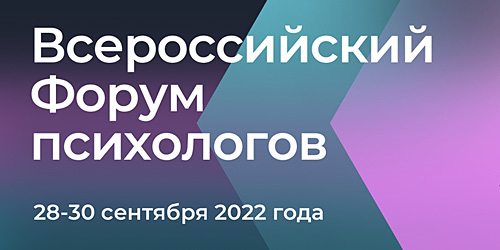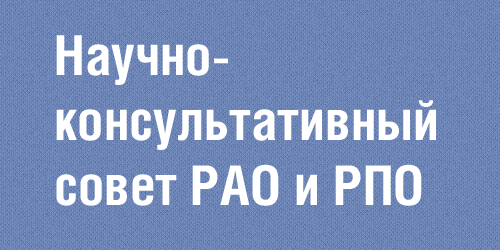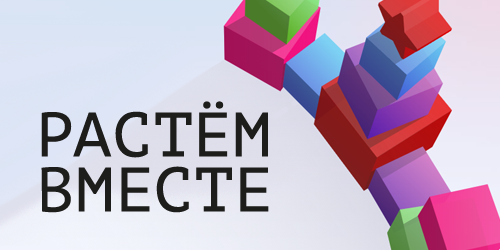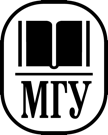Культурно-историческая и клинико-психологическая перспектива исследования феноменов субъективной неопределенности
Аннотация
В статье анализируются некоторые социокультурные предпосылки и личностные предиспозиции, обусловливающие современное многообразие проявлений феноменов субъективной неопределенности и двойственности. Подчеркивается, что для создания «реальной клинической психологии» (термин А.Р. Лурия) необходимо прослеживание связи между ресурсными и психопатологическими аспектами феноменов субъективной неопределенности и современной культурной средой с ее деструктивными идеалами, мифологемами, манипулятивными медиатехнологиями и все пронизывающей идеей деконструкции. Сравниваются способы моделирования переживания неопределенности в экспериментальной ситуации, патопсихологическом обследовании и проективной психодиагностике. Приводится аргументация в пользу трактовки дефицитарных проявлений субъективной неопределенности как диагностического критерия глубины личностного расстройства.
Одним из главных следствий применения в психологии культурно-исторического подхода Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева стало изучение структуры психического, исходя из общественных и культурных условий, запросов и строения практической предметной деятельности. Как показал А.Р. Лурия в своей ранней и широко известной работе «Культурные различия и интеллектуальная деятельность», познавательная деятельность, вытекающая из непосредственного практического опыта, и деятельность, опосредствованная «логическими кодами», будут иметь разное строение и будут по-разному эффективны в зависимости от условий и предметного содержания познавательной задачи (Лурия, 2001). Была сформулирована проблема, на долгие годы определившая направление теоретических и экспериментальных исследований отечественной психологии: посредством каких психологических механизмов культурная ситуация изменяет структуру и организацию интеллектуальной деятельности, каковы конкретные психологические механизмы и закономерности осуществления процесса интериоризации в норме и патологии. Как известно, исследования школы Л.С. Выготского привели к формулировке ряда основополагающих теоретико-методологических положений о системном строении сознания, его знаково-символическом опосредствовании, структуре и функционировании «житейских» и «научных» понятий, о возрастной динамике высших психических функций и их строения, о патологии развития личности.
Культурно-историческая парадигма, разработанная школой Л.С. Выготского, привлекает внимание к общественным условиям как медиаторам нормального и патологического психического развития, кризисным ситуациям, роли общения, и тем самым задает новую теоретическую модель психического, методологию эксперимента в психологии вообще и в клинической психологии в частности (Выготский, 1982). Особый интерес А.Р. Лурия вызывала область изучения аффективных конфликтов и «комплексов» объективными методами. Так, благодаря широко применявшейся им плетизмографической методике стала доступной измерению смысловая структура сознания, а впоследствии были выявлены и некоторые условия, влияющие на развитие, содержание и изменение широты семантических систем. Им же был разработан такой прием моделирования этих изменений в экспериментальной ситуации, как варьирование инструкции, стимульного материала, внутреннего эмоционального состояния, мотивации и установок обследуемого (Лурия, 2003а). Таким образом, экспериментально доказывалась зависимость смыслового содержания психического (в том числе актуально не репрезентированного сознанию) от уровня культурного развития, этнических условий, профессиональной подготовки, а также от специфики культурных средств, используемых в качестве медиаторов.
В своих размышлениях о будущем так называемой «реальной психологии» А.Р. Лурия подчеркивал важность изучения макро- и микросоциальных влияний (классовой и партийной ангажированности, религиозности, групповой принадлежности и проч.), формирующих содержательные и структурно-функциональные особенности индивидуальной психической жизни: «…в реальном человеческом мышлении мы всегда находим ряд изменений и “извращений”, которые находятся в прямой зависимости от влияния социальной среды» (Лурия, 2003б, с. 324). Он утверждал также, что психология, полностью абстрагирующаяся от конкретных обстоятельств жизни индивида, рискует превратиться в догму, схему, фикцию; следовательно, «реальная психология» должна стремиться к синтезу номотетического и идиографического принципов исследования (там же, с. 314) и в идеале отказаться от позитивистской (чисто искусственной, «стерильной») модели эксперимента; она должна учитывать роль индивидуальных биографий и условий развития, конкретных социальных ситуаций и коммуникативных контекстов как в прошлом опыте субъекта, так и в моделируемых здесь и теперь условиях клинического обследования и общения с психологом.
Для клинических психологов уже более или менее очевидна связь между современной культурой (философией, искусством, кинематографией, стилем жизни) с ее деструктивными идеалами и мифологемами, манипулятивными медиатехнологиями и все пронизывающей идеей «деконструкции» и разными гранями социокультурного феномена субъективной неопределенности. С точки зрения современных социологов и культурологов неопределенность во многих своих социокультурных проявлениях составляет сам дух эпохи постмодерна (Бауман, 2002) — конституирующий фактор ставших нормой расплывчатости и изменчивости индивидуальной идентичности, морального релятивизма, безверия и обесценивания межличностных отношений. Вообще социологи постмодерна склонны к клинико-личностному описанию социальных процессов в терминах расщепления, диффузии, фрагментации самоидентичности, обострения проблем зависимости-индивидуализации в отношениях с социумом, что до некоторой степени размывает границы между неопределенностью социально-предметной среды и ее субъективным переживанием (Бауман, 2002; Бек, 2000). Бессилие, несостоятельность, хаотичные действия и террор полной свободы — вот, по мнению З. Баумана, симптомы этой постмодернистской болезни, поражающей личность в ее попытках «обретения собственного лица». Вторя ему в размышлениях о болезни личности, ее социальных источниках и последствиях для будущего нашей страны, известный философ и культуролог М. Эпштейн конструирует что-то вроде обобщенного психопатологического синдрома социальных макромутаций, выделяя среди синдромообразующих факторов последних дегенерацию населения, уязвимость государственных границ и расползание федерации, всепроникающую коррупцию и криминализацию, цинизм и индифферентность значительной части населения. Автор описывает состояние современного российского общества с помощью своеобразного оксюморона «обнадеживающее уродство», имея в виду, что неустойчивость данного исторического момента одновременно содержит в себе два прямо противоположных исхода — либо крушение всего общественного устройства, либо его возрождение через «ростковые точки надежды», аномальные с позиции развитых постиндустриальных западных обществ, но специфичные для России (Эпштейн, 2011).
Совершенно ясно, что в условиях социокультурного прессинга неопределенность и двусмысленность принципов организации социальных взаимодействий в сочетании с привлекательностью технологий манипуляторства и макиавеллизма как орудий управления и узурпации власти частью общества серьезно затрудняет возможности персонального выбора. Давление иррационально завышенных социальных требований и властных авторитетов оказывается невыносимо стрессогенным особенно для людей с повышенной уязвимостью и хрупкостью самоидентичности, выраженными чертами психологической зависимости, дефицитом индивидуальности и когнитивной простотой, столь характерными для пограничной личностной организации (Соколова, 1989, 2005, 2009). Исходя из трех критериев — специфики проецируемого содержания тревоги, способов психологической защиты и состояния самоидентичности, — можно, на наш взгляд, говорить как минимум о пяти типичных переживаниях субъективной неопределенности, порождаемых отчасти неспособностью личности справиться с хаосом социальной и культурной неопределенности и в этом смысле характеризующих глубину личностного расстройства, а отчасти — ее ресурсными возможностями.
1. Первый тип окрашен или даже точнее — «наводнен» всепоглощающим негативным аффектом, ядро которого составляет непереносимая персекуторная тревога. Здесь мера субъективной неопределенности максимальна: неясность, размытость, бесформенность, безграничность, бессвязность вызывают к жизни паранойяльные фантазийные репрезентации чуждости, враждебности, расщепление внешнего и внутреннего «другого», угрожающих психологическому выживанию и целостности «я».
2. Второй тип также связан с отрицательным спектром эмоциональных состояний, но здесь доминирует несколько иная феноменология: двусмысленность, амбивалентность, многозначность, непредсказуемость, противоречивость, запутанность, сложность. Страх новизны ведет к предпочтению простоты, упорядоченности, обычности, рутинности, ограниченности и предсказуемости в качестве защит от ожидаемой катастрофичности нового, непрогнозируемости будущего и «необжитых пространств неизвестности», переживаний шока, растерянности, агорофобии и паники перед лицом потери (само)контроля и постоянства «я».
3. Третий тип характеризуется полной непереносимостью неопределенности как ситуации отсутствия доступа к внутренним ресурсам и как результат — крайней зависимостью от социального окружения; отказом от собственной системы эталонов, предпочтением личного и социального конформизма, полным подчинением авторитету, режиму, власти, нивелированием собственного «я», слиянием с ситуацией, хамелеонообразностью героя известного фильма Вуди Аллена «Человек-Зелиг».
4. Четвертый тип переживаний неопределенности — маниакальная проекция «опьянения» трансгрессией и хаосом, отсутствием всех и всяческих границ, любых сдерживающих нормативов и правил, предпочтение нарциссически-перфекционистской вседоступности и вседозволенности.
5. К последнему типу, гораздо менее представленному в патологии, относятся переживания, окрашенные позитивным эмоциональным тоном: любопытство, поисковая надситуативная активность, игра фантазии, порождение новых смыслов, радость, азарт, связанные с удовольствием от исследований и инсайтов и приводящие к творческому и осмысленному преобразованию ситуаций неопределенности.
Вызывает удивление, что в клинической психологии изучению специфики переживания субъективной неопределенности все еще не уделяется достаточного внимания. В то же время в когнитивной и социальной психологии вот уже более полувека успешно разрабатываются и используются различные способы создания экспериментальной неопределенности: «расфокусированность» стимула и условий его предъявления, смысловая многозначность или двусмысленность, эмоциональная депривация и варьирование мотивации, коммуникативного и группового контекстов и др. Благодаря новым исследовательским моделям, основанным на принципе контроля меры структурированности предметного и социального окружения, заимствованном из проективной психологии, изучены роль установки, активности, пристрастности субъекта, субъективной устойчивости к давлению «поля», индивидуальные, возрастные и культурные различия в познавательных стратегиях или в «когнитивно-аффективных стилях» (Брунер и др., 1971; Ротенберг (Соколова) 1971; Соколова, 1976, 1980, 2005, 2009, 2011; Холодная, 1998; Adorno et al., 1950; Auerbach, Blatt, 1996; Blatt, Lerner, 1983; Hogg, 2007; Witkin et al., 1954; Witkin, Goodenough, 1981; и др.). В современных исследованиях «диффузной» и нарциссически-грандиозной идентичности (в том числе эффективности психотерапии) также обнаруживается множество имплицитно подразумевающихся указаний на патогенную роль именно неопределенных социальных кодексов и правил, семейных сценариев и стилей общения, культурных идеалов и моральных критериев. Люди с «хрупкой» пограничной личностной организацией в условиях неопределенности особенно предрасположены к утрате внутренней последовательности и связности переживания «я», потери временнОй перспективы. Их диффузная самоидентичность легко лишается своих неотъемлемых качеств историчности, динамичности, устойчивости и подлинности под давлением неструктурированного социокультурного окружения, «рассыпается на ряд моментальных снимков», по выражению З. Баумана (2002). И напротив, известная толерантность к неопределенности и переносимость амбивалентности могут свидетельствовать о достижении индивидуальной зрелости, константности и целостности «я», способного справляться с сепарационными и анаклитическими тревогами.
В современной ситуации широкого распространения явлений социокультурной неопределенности клиническая психология испытывает острую нужду в новых методологических подходах, позволяющих развивать новые технологии диагностики и социально-психологической реабилитации тех пациентов, которые страдают серьезными личностными расстройствами, резистентны к любому виду фарма- и психотерапии, склонны к ранней десоциализации и инвалидизации в новых и нестандартных жизненных обстоятельствах, характеризующихся именно высокой степенью неопределенности и отсутствием заданных правил. Как нам представляется, качественные особенности субъективного переживания неопределенности, смоделированные в экспериментальной диагностической ситуации проективного обследования, могут рассматриваться в качестве экологически валидных. Сами же способы совладания с неопределенностью (каким образом, какими стратегиями и индивидуальными стилями человек трансформирует хаос неопределенности в структуру, осмысленное целое) служат надежными маркерами меры устойчивости «я», продуктивности средств самоконтроля и саморегуляции, познавательной реалистичности, коммуникабельности и нравственной зрелости, а также маркерами их нарушения при психических заболеваниях и расстройствах личности (Соколова, 1989, 2005, 2009, 2011).
Здесь мы еще раз сталкиваемся с необходимостью осмысления таких фундаментальных проблем психологии, как соотношение ситуативной изменчивости и способности к развитию и структурной устойчивости личности, средовых социокультурных влияний и свободы индивидуально-личностного самоопределения. Все это заставляет еще раз обращаться к методологическим традициям, которые заложили А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник и С.Я. Рубинштейн, в новом контексте осмысливать практические задачи патопсихологического исследования и экологические ракурсы традиционной исследовательской парадигмы (Зейгарник, 2000; Рубинштейн, 1970).
Для отечественной патопсихологии изначально неоспоримыми приоритетами в диагностике были качественный анализ и интерпретация процесса выполнения заданий, всегда рефлексируемые в нескольких контекстах: 1) с точки зрения структурно-деятельностного подхода; 2) в неразрывной связи со спецификой общения пациента с экспериментатором; 3) с учетом анамнеза, истории болезни и индивидуальной социальной ситуации развития. Таким образом, можно сказать, что в лучших своих образцах патопсихологическое обследование — это всегда изучение целостного casestudy, реализация единства идиографического и номотетического, актуалгенетического и исторического методологических принципов. Коммуникативный аспект диагностики проявляется в специальной организации ситуации обследования и задании его мотивации; в прослеживании влияния дифференцированных форм помощи, поддержки, критики, обучения на процесс, структуру и результативность познавательной деятельности; в оценке анамнеза и актуального поддерживающего ресурса социальной ситуации больного вне клиники. Умение разрабатывать стратегии и тактики патопсихологического эксперимента на основе знания общих закономерностей клиники и с учетом индивидуальности больного рассматривается в отечественной патопсихологии в качестве существеннейшего и сложнейшего профессионального навыка, необходимого для обоснованного патопсихологического заключения и разработки практических рекомендаций (Рубинштейн, 1970). В постулировании и отстаивании принципов активности, субъектности, коммуникативной опосредованности применительно к задачам психодиагностики практическая патопсихология в значительной степени опережала психологическую теорию, находилась в мейнстриме гуманистических идей 1960—1970 годов, обостренного тогда интереса к ценностно-смысловому «измерению» личности, целостности и ценности человеческих отношений, опосредствующих (как в норме, так и в патологии) строение и динамику познавательной деятельности, нарушения которой не могут быть поняты без учета ее мотивационного, смыслового и отношенческого компонентов (Зейгарник, 2000).
Набор применяемых для патопсихологического обследования методик общепринят и стал своего рода стандартом. Здесь возникает множество методических и методологических вопросов, требующих дальнейшего обсуждения и научной рефлексии. Так, можно ли рассматривать методики, используемые для диагностики структуры познавательных процессов, в ракурсе проективной парадигмы, т.е. в качестве методик диагностики структуры личности, личностной организации? Можно ли на основе научных критериев отнести эти методики к классу проективных или, по крайней мере, имеющих проективный компонент? Если «да», то необходимы ли некоторые модификации процедуры их применения и самой организации патопсихологического обследования, его сеттинга? Мы придерживаемся утвердительного ответа на эти вопросы и вот почему.
Как известно, к проективным относят методы, направленные на моделирование разных аспектов переживания неопределенности, создаваемой посредством информационного, сенсорного, эмоционального или смыслового дефицита. Условиями, обеспечивающими моделирование переживания неопределенности (и одновременно экспериментальными приемами ее создания), становятся специфическая организация целостной ситуации проективного обследования (стимульного материала, его предъявления, мотивирующей инструкции) и специфика экстериоризуемых и формирующихся в процессе всего обследования отношений в диаде «обследуемый—психолог». Многоаспектность депривации усиливает нагрузку на способность человека переносить неопределенность без потери ориентации в реальности, без дезинтеграции личности, без саморазрушения и разрушения целенаправленного взаимодействия с физическим или социальным и межличностным окружением. Ситуация неопределенности провоцирует эмоциональные состояния тревоги и активирует сложившуюся систему защитных и копинговых стратегий саморегуляции, репрезентаций «я» и «другого». Неопределенность межличностных отношений с диагностом порождается некоторой двойственностью его коммуникативной позиции: сочетанием доброжелательно нейтральной установки и фрустрирующим избеганием прямых ответов на вопросы пациента. Это позволяет последнему «встретиться» с собственным опытом переживания неопределенности, реконструирующим хаос аффективных состояний и тревог, травматичный ранний опыт эмоциональных отношений со значимыми «другими», мир инфантильных страхов, конфликтов и защит. Проективный потенциал неопределенности, таким образом, вызывает к жизни метакоммуникативный, символический пласт коммуникации из прошлого опыта отношений, калькирующих неосознаваемые схемы переноса и контрпереноса. Но неопределенность экспериментальной ситуации предоставляет и уникальную возможность «встречи» со здесь и теперь формирующимися отношениями сотрудничества пациента с психологом. Наши исследования показывают, что содержательная специфика эмоциональных переживаний, способы их структурирования и контроля, качественные и стилистические особенности познавательной деятельности в условиях «переносимости-непереносимости» неопределенности являются сильными критериями диагностической оценки пограничной и нарциссической структурно-функциональной личностной организации.
В сравнении с проективными методами классически построенное патопсихологическое обследование организуется несколько иначе: диагност работает, как правило, «внутри» так называемой экспертной мотивации, которая в значительной степени фрустрирует и сужает диапазон индивидуальной мотивации, формирующей реальный смысл для пациента выполняемых диагностических заданий и личной заинтересованной включенности. В этом смысле нам представляется не вполне обоснованным введение в традиционную обойму патопсихологических методик личностных опросников и тем более проективных техник без изменения сеттинга — дифференциации диагностических задач, мотивации и времени обследования, инструкции и динамики построения отношений между диагностом и обследуемым.
Вместе с тем серьезные различия в методологии не мешают нам рассмотреть проективные возможности, заключенные и в самих традиционных патопсихологических процедурах, при условии модификации организации обследования. В частности, каждая из предлагаемых тестовых задач-проб содержит элемент выбора из большого количества решений; каждая проба создана таким образом, что выбор оптимального решения затруднен перцептивной, семантической или смысловой избыточностью условий, микширован «фоновым шумом» из неверных, неточных или произвольных выборов. Так, выполнение методики «Классификация предметов» предполагает абстрагирование от множества несущественных, эмоционально-нагруженных или конкретно-ситуационных признаков; то же самое относится и к методике «Исключение предметов». Обследуемый стоит перед необходимостью концентрации внимания и длительного его удержания на цели задачи, требующей отстройки от поля (предметного и социального окружения) и выбора, опирающегося не только на способность к аналитико-синтетической деятельности, но и на активность, самостоятельность, критичность, рефлексию, устойчивость самооценки к фрустрации, что не менее влияет на конечный результат выполнения задания. С нашей точки зрения, ситуацию патопсихологических проб можно трактовать по аналогии с известными экспериментальными ситуациями исследования индивидуальных различий и когнитивного стиля, когда неопределенность условий позволяет проявиться индивидуальным предиспозициям — пассивному следованию внешним обстоятельствам или сопротивлению полю и опоре на внутреннюю систему эталонов. Индивидуальный выбор стратегии диктуется одновременно требованиями наличных условий задачи (обстоятельств реальности) и системой устойчивых личных предпочтений в отношении самооценки, представлений о значимых «других», ценностей и/или необходимостью «отстройки» от них, что провоцирует проекцию целостной совокупности познавательных, эмоционально-регуляторных и коммуникативных стилевых стратегий личности, ее жизненного стиля. Подобный методологический ракурс является дальнейшим развитием идей А.Р. Лурия и Б.В. Зейгарник о системной организации высших психических функций и ее переструктурировании в условиях психопатологии в новую конфигурацию, новый гештальт. Реализация данного принципа позволила многим отечественным патопсихологам в конкретных исследованиях реализовать принцип изучения личности «через познавательные процессы», через «личностный компонент психической деятельности» больного (В.В. Николаева, С.Н. Логинова, И.И. Кожуховская, Л.В. Бондарева, Т.И. Тепеницина, Е.Т. Соколова и др.).
Сегодня можно сказать, что клиническая психология становится психологией субъектной и экологической в той мере, в какой она принимает в расчет социокультурные и средовые факторы, участвующие в порождении и поддержании аномального развития личности. Последнее очевидно для пограничной и нарциссической личностной патологии, характеризующейся гипертрофированными и парадоксальными «скачками» между полюсами зависимости и автономии от социального окружения и дефицитом индивидуальности при выраженном индивидуализме. Мы также все больше осознаем ограниченность экологической валидности результатов, полученных исключительно на основе количественной оценки тестовых процедур, в «стерильных» лабораторных условиях, при дистанционной диагностике; все более убеждаемся в необходимости интерпретировать результаты обследования в коммуникативном контексте, принимая в расчет отношения больного, складывающиеся как в процессе общения во время обследования, так и вне больничной ситуации. Поддержка или фрустрация, исходящие из социальных сетей, семьи, уровень образования и наличие удовлетворяющей работы, коммуникативный ресурс и качество комплаентности (наряду с клиническими и индивидуальными особенностями больного) — весьма существенные факторы симптомообразования, инвалидизации, спонтанной ремиссии, эффективности психотерапии.
Подводя итог обсуждению поставленной в данной статье проблемы, еще раз подчеркнем несколько важных для нас моментов. «Психология, — отмечал А.Р. Лурия, — безусловно, не может вырывать, изолировать личность от потока социальной эволюции и социальных влияний, иначе она рискует потерпеть фиаско при каждой попытке разобраться в очень многих содержаниях и формах психической жизни» (Лурия, 2003б, с. 319). Добавим, что психология, «растворяющая» личность в социальных контекстах, также рискует потерпеть фиаско, «потеряв» личность.
Важно подчеркнуть также неоднозначность и многогранность самого феномена субъективной неопределенности, равно как и значение социокультурных, индивидуально-личностных и клинических факторов определяющих специфику его переживания, неоднозначность его общественно-политической оценки. Состоянию неопределенности действительно присущи недостаточная прогнозируемость и риск, но было бы большой логической ошибкой и противоречием здравому смыслу сводить его последствия к неизбежности личного безумия или социально-политической катастрофы. История знает, что радикальными способами окончательного решения проблемы «непереносимости неопределенности» могут стать диктатура, тоталитаризм и жесточайший контроль общественной и личной жизни (Арендт, 2008; Adorno et al., 1950), и эти способы уже достаточно отрефлексированы в философии и социологии. Для отечественной клинической психологии эта проблема представляет интерес и в контексте соотношения социокультурной и индивидуально-личностной детерминации саморегуляции деятельности, социального и индивидуального, стабильного и развивающегося в самоидентичности. Содержательная и методологическая проблематизация субъективной непереносимости неопределенности, углубленная рефлексия разных граней этого феномена как культурного явления и его роли в этио- и патогенезе расстройств личности задает новые ракурсы развития культурно-исторического подхода к изучению патологических и «пограничных» феноменов в современном социокультурном контексте.
Список литературы
- Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М., 2008.
- Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002.
- Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000.
- Брунер Дж., Олвер Р., Гринфилд П. Исследование развития познавательной деятельности / Под ред. П. Гринфилда. М., 1971.
- Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М., 1982.
- Зейгарник Б.В. Патопсихология. М., 2000.
- Лурия А.Р. Этапы пройденного пути. Научная автобиография / Под ред. Е.Д. Хомской. 2-е изд. М., 2001.
- Лурия А.Р. Объективное исследование динамики семантических систем // Лурия А.Р. Психологическое наследие. Избранные труды по общей психологии / Под ред. Ж.М. Глозман, Д.А. Леонтьева, Е.Г. Радковской. М., 2003а. С. 211—235.
- Лурия А.Р. Принципы реальной психологии (о некоторых тенденциях современной психологии) // Лурия А.Р. Психологическое наследие. Избранные труды по общей психологии / Под ред. Ж.М. Глозман, Д.А. Леонтьева, Е.Г. Радковской. М., 2003б. С. 295—383.
- Ротенберг Е.Т. (Соколова Е.Т.) Влияние нарушений личностного компонента деятельности на процесс восприятия: Автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1971.
- Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт их применения в клинике. М., 1970.
- Соколова Е.Т. Мотивация и восприятие в норме и патологии М., 1976.
- Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М., 1980.
- Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М., 1989.
- Соколова Е.Т. Переносимость-непереносимость неопределенности: социокультурные, дифференциально-психологические, клинические аспекты // Ежегодник РПО. М., 2005. С. 422—423.
- Соколова Е.Т. Нарциссизм как клинический и социокультурный феномен // Вопр. психологии. 2009. № 1. С. 67—80.
- Соколова Е.Т. Аффективно-когнитивная дифференцированность/ интегрированность как диспозиционный фактор личностных и поведенческих расстройств // Теория развития: Дифференционно-интеграционная парадигма / Сост. Н.И. Чуприкова. М., 2011. C. 151—166.
- Холодная М.А. Когнитивные стили: парадигма «других» интеллектуальных способностей // Стиль человека: психологический анализ / Под. ред. А.В. Либина. М., 1998. С. 52—63.
- Эпштейн М. О России с надеждой // «Новая газета». № 135, от 02.12.2011. С.15—16.
- AdornoT.W., Frenkel-BrunswikE., LevinsonD.J., SanfordR.N. The authoritarian personality. N.Y., 1950.
- Auerbach J., Blatt S.J. Self-representation in severe psychopathology: The role of reflexive self-awareness // Psychoanalytic Psychology. 1996. Vol. 13. P. 297—341.
- Blatt S.J., Lerner H.D. The psychological assessment of object representation // J. of Personality Assessment. 1983. N 47. C. 7—28.
- Hogg M.A. Uncertainty-identity theory // Advances in experimental social psychology / Ed. by M.P. Zanna. San Diego, CA, 2007. P. 70—126.
- Witkin H.A., Lewis H.B., Hertzman et al. Personality through perception: An experimental and clinical study. Oxford, UK, 1954.
- Witkin H.A., Goodenough D.R. Cognitive styles — essence and origins: Field dependence and field independence. N.Y., 1981.
Дата публикации в журнале: 30.06.2012
Ключевые слова: Array
Доступно в on-line версии с: 30.06.2012
-
Для цитирования статьи:

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция-Некоммерчески») 4.0 Всемирная